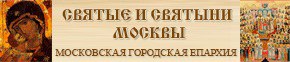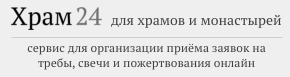«Веленью Божию, о Муза, будь послушна»
А.С. Пушкин
Как глубок и как поразителен в своей непостижимости Гоголь! Что за восхитительная, гремящая живоносными ключами и исцеляющими источниками блистающая бездна! Что за чёрный, пугающий адским скрежетанием котлован! Кто ты? Святой ли юродивый? Чёрный ли грешник? Живым вышедший на свет белый из самой преисподней, тайновидец душ мёртвых. Замысел твой был столь грандиозен, что сделав шаг на земле грешной, оказался ты со ангелами в раю, чтобы пели вместе с тобой вожделенную тобою Русь-богоносицу воскрешённые Творцом души, но уже не мёртвые - живые!
Бог не скрыл от Своего избранника его предназначения: его делом была душа.
Священники и писатели – те, кто допущены в святая святых, кто имеет входить в сокровенные пределы грядущего Царствия Божьего, которое, по словам Спасителя уже в этой жизни «внутрь вас есть». Оно возрастает подобно зерну горчичному и подобно закваске изменяет жизнь.
Великая тайна – слово! Сокрыты в словах зёрна. Писатели, а точнее, избранные из них и те, кто носят на челе своём печати русских пророков, таковы не по одному лишь метафорическому сравнению, но по самой своей сути, по прямому и единственному предназначению своему. Великой неизбежностью для каждого русского пророка является глубинное религиозное сознание, святым Евангелием зримо озарены прекрасные строки их боговдохновенных творений. Именно поэтому, могучие Самим Именем Божиим, имеют они необыкновенную силу - воскрешать души человеческие из небытия.
Весьма смело нам, простым смертным, заглядывать в пределы писательских мастерских, пытаясь разглядеть, из каких порой сорных трав сплетены эти дивные венки не от мира сего песнопений. И уж тем более самонадеянно, не обретшим твёрдой веры, с высоты собственного эгоизма порочить имена носителей власть имеющего слова. Нам, нашей обмирщённой логикой, трудно понять: отчего, скажем, Достоевский - «страстный игрок», Гоголь - «великий гордец», Есенин - «кутила и хулиган», а Пушкин - «сладострастный любостяжатель». Не спешите судить и уж тем более не смейте осуждать, се сосуды избранные. Иисус – единственный ключ к пониманию их писаний. Иисус – единственный ключ к их собственным страдающим во Христе душам.
Подумать только, какие богатейшие для духовного возрастания нации сокровища таятся в житиях наших отечественных гениев. Да-да, именно в житиях! Пророки могут оставить за собой лишь один след - агиографический, в этом не может быть никакого сомнения. О многих святых прославленных Церковью мы не знаем практически ничего, об иных знаем довольно, но о тех, кто обрёл вечную благодарность потомков за слово оставленное ими в веках, литературоведы, историки литературы, современники, сохранили для нас уникальное, ни с чем не сравнимое наследие. Но увы, всё оно, по каким-то наезженным и укатанным уже в многослойный бетон широким магистралям, воспринимается нами исключительно через призму светского мышления, в лучшем случае с поклоном в сторону Церкви и практически никто не говорит о русских писателях, как о подлинных стяжателях духа Божия, как о непрославленных святых. Хотя воистину: «Такие творцы по своему значению в истории слова подобны святым отцам в Православии», - говорил в своей речи о Гоголе будущий святой новомученик Иоанн Восторгов. Так что это? Что за поразительное, необъяснимое явление? Ведь сколько полезного, назидательного… о! какой это царский пир уму и вожделенная сокровищница одухотворённому сердцу - погружение в богатейшие, фактически целые хроники, иной раз расписанные буквально по дням и часам подробнейшие биографические описания жизни наших отечественных гениев, «святых отцов» русской словесности! Загадка… А может все проще и «нет пророка в своём отечестве»?
Читая мемуары, посвящённые жизни Николая Васильевича, или богатое эпистолярное наследие самого писателя, так и хочется воскликнуть – авва Гоголь!
Несмотря на то, что наш небольшой очерк посвящён лишь трём эпизодам из жизни великого писателя, когда он в качестве паломника посетил предел старчества на Руси - известный монастырь Оптину пустынь, но эта тема тянет, как минимум, на отдельную книгу, вскоре вы поймёте почему. Итак, во Христе возлюбив, попытаемся войти в притвор великого собора с именем Гоголь.
***
Трижды бывал в Оптиной Пустыни Николай Васильевич Гоголь. Есть свидетельства современников о том, что сюда он начал собираться ещё в середине 1840-х годов. Первый раз писатель побывал в монастыре в июне 1850 года. Затем в июне и сентябре 1851 года.
В первый свой приезд Николай Васильевич познакомился с преподобными старцами Моисеем и Макарием Оптинскими.
Старец Макарий был сотаинник и ученик первого Оптинского старца Льва, наставник великого Оптинского старца Амвросия. Семь лет преподобные старцы Лев и Макарий вместе руководили духовной жизнью братии и многих тысяч людей. Отец Макарий был мягкого склада души, исключительно скромен. Его чада свидетельствовали о нём: «Про него без колебаний можно сказать то же, что было сказано про соимённого ему подвижника авву Макария Великого: «Он, как Бог, всех покрывает любовью». И сила этой любви настолько привлекала к нему сердца всех, что мы готовы были не отходить от него, чтобы всегда наслаждаться светлым его лицезрением и сладкою беседою богоглаголивых уст его». Лицо его было светло от постоянной Иисусовой молитвы, творимой им, оно сияло духовной радостью и любовью к ближнему. Вот каким его запомнили в то время его чада: «Старец был огромного роста, с лицом некрасивым, со следами оспы, но белым, светлым, взгляд был тих и полон смирения. Нрав его был чрезвычайно живой и подвижный. Память прекрасная: после первой исповеди на всю жизнь запоминал он человека. Был он прозорлив: первый раз видя человека, называл его иногда по имени, прежде чем тот представлялся. Отвечал иногда на письменные вопросы, прежде их получения, так что писавший получал ответ на письмо, час тому назад посланное».
20 лет провёл старец в своей скромной келье, где были приёмная и маленькая спальня. Вставал он на правило при ударе скитского колокола в 2 часа утра; часто сам будил своих келейников. В шесть часов ему вычитывали «часы с изобразительными» и он выпивал одну-две чашки чаю. Начинал принимать многочисленных паломников. После беседы с ним люди обновлялись. Старец помазывал больных святым елеем из своей неугасаемой лампады. Исцеления были многочисленные. Особенно часто были исцеления бесноватых. Известен такой случай: к преподобному Макарию привели одного бесноватого, который ничего ранее о старце не знал и никогда его не видел. Бесноватый, бросившись к приближающемуся старцу с криком: «Макарий идёт, Макарий идёт!», ударил его по щеке. Преподобный тут же подставил другую щеку, а больной рухнул на пол без чувств. Очнулся он исцелённым. Бес не смог перенести великого смирения старца.
Измученный, едва переводя дыхание, возвращался святой с ежедневного своего подвига. Время приходило слушать правило. Звонили к вечерней трапезе. Но и в это время он принимал монастырскую и скитскую братию.
Тело ныло от изнеможения, а сердце от впечатлений обильно открывшегося человеческого страдания. Глаза орошались слезами... а на столе лежала кипа писем, требующих ответа. Он садился и писал. Когда гасла свеча, старец вставал на молитву. Молитва в нем не прекращалась, будь он в многолюдстве, за трапезой, в беседе или в тиши ночи. Она источала елей его смиренномудрия.
Существует предание, что отец Макарий, обладавший даром прозорливости, предчувствовал приход Гоголя. Позже, старец Варсонофий рассказывал своим духовным детям: «Говорят, он был в то время в своей келии и, быстро ходя взад и вперёд, говорил бывшему с ним иноку: «Волнуется у меня что-то сердце. Точно что необыкновенное должно совершиться, точно ждёт оно кого-то». В это время докладывают, что пришёл Николай Васильевич Гоголь». Подробности их встречи остались в тайне. Но дальнейшие события жизни писателя и скорая его кончина говорят о том, что встреча эта была особой.
В монастыре Гоголь жил в скиту, в отдельном домике, чудом уцелевшем до наших дней. Писатель пребывал в благостном состоянии духа. Скит изнутри ограды был похож на сплошной цветник из редких, умело рассаженных и с любовью выращенных цветов и напоминал рай. К окружающей красоте добавлялись ветхозаветная тишина, утренний благовест и вечерний звон. Николай Васильевич гулял по окрестностям, собирал целебные травы, много читал.
Буквально на следующий день после отъезда из Оптиной, находясь под глубоким впечатлением от поездки, Гоголь писал оптинскому иеромонаху Филарету (бывшему наместнику Московского Новоспасского монастыря, проживавшему с 1843 года на покое в Оптиной): «Ради Самого Христа, молитесь обо мне, отец Филарет. Просите вашего достойного настоятеля, просите всю братию, просите всех, кто у вас усерднее молится и любит молиться, просите молитв обо мне. Путь мой труден; дело моё такого рода, что без ежеминутной, без ежечасной и без явной помощи Божией не может двинуться моё перо...». Спустя три недели, воспоминания о поездке все не отпускали душу писателя, в его письме графу А.К. Толстому есть такие удивительные строки: «Я заезжал... в Оптинскую Пустынь и навсегда унёс о ней воспоминание. Я думаю, на самой Афонской Горе не лучше. Благодать видимо там присутствует... Нигде я не видал таких монахов. С каждым из них, мне казалось, беседует все небесное...». В некоторых местах Гоголь очень категоричен: «Мне нужно ежеминутно, говорю вам, быть мыслями выше житейского дрязгу и на всяком месте своего странствия быть в Оптинской Пустыни». Можно предположить, что как раз где-то в это время, душа русского пророка навсегда простилась с миром, она, наконец, нашла своё земное пристанище. Последний круг «ада» замкнулся, забрезжил «рай»… Свершилось!
***
Нам, простым людям, трудно даже вообразить масштабы встречи, произошедшей самым обыкновенным летним днём в Оптиной пустыни. Для того чтобы хоть немного приблизиться к верному представлению о ней, прежде всего, дадим себе отчёт – что за две могучие человеческие глыбы сошлись тогда в тихой монашеской келье и что это было за дивное промыслительное обретение: вымоленное, судьбоносное.
Как огненная лава иной раз тысячелетиями набираемой силой в назначенный ей час неудержимо прорывает тонны каменных толщ, так душа русского пророка таинственными путями неодолимо влеклась к душе святой и той, что самою жизнью своею выстрадала эту вожделенную святость, каждым мгновением упорного волевого труда, освящённого живым присутствием Самого пренебесного Духа. Да! Это была встреча века!
На сорок втором году своего земного бытия, в ещё дымящемся от многолетних странствий по кругам «ада» «Мёртвых душ» ветхом своём облачении, ещё смердящий мерзкими нечистотами преисподней, пробирался на свет Божий победитель легионов бесовских. Силой божественной благодати он смог выйти из «ада» живым. Отныне, по окончании первого тома великой поэмы, следуя задуманному сюжету, Гоголь всецело устремился на поиск Божиего в мире, он искал любые формы проявления святости! Искал страстно, самоотверженно. И Бог услышал его дерзновенные моления и нашёл того, кто носил и сам был носим Духом Божиим. Со всею чуткостью, со всею своею непостижимой проницательностью, Николой Васильевич не мог не знать, с кем в тот час свела его судьба. Возликовало и чистое сердце старца Макария: «точно необыкновенное должно совершиться…». Радость встречи была обоюдной! Милостив Господь, в горнюю славу Свою собирает Он избранных Своих и любимых уже здесь, на земле и совершает это в ознаменование высшего смысла человеческого бытия: правды жизни, великой грядущей встречи с Ним Самим.
С чем, носящий в чине своём божественные глаголы, пришёл к стяжавшему высокие дары Духа Божия прозорливцу, чудотворцу и тайновидцу? И о чем они могли говорить?
***
Скорбная, разделяющая своим служением бремя Самой Пречистой Девы, душа Гоголя несла на себе всю Россию. Подобно ветхозаветному Самсону, наделённый исполинской силой, подвигом всей своей деятельной жизни, вместил он в сердце неземную судьбу земного Отечества своего. С юных лет жило в нем страстное и неудержимое стремление совершить «что-либо важное на общую пользу России». В беседе с матерью он заявлял, что «если Бог удостоит его быть полезным своему Отечеству, то он будет считать себя счастливейшим человеком, но при одном воображении, что не допустят к тому обстоятельства, он чувствует, что холодный пот выступает у него на лбу».
Долгие десятилетия, живя укладом близким к аскетическому, избегая всякого даже мысленного «житейского дрязгу», он был всецело предан единственной и неизменной любви своего сердца – вожделенной им России. Биографам доподлинно известны те особенности, которые составляли незатейливый быт писателя. Вообще Гоголь, по сути, вёл бездомную жизнь скитальца. У него не было своего дома, он жил у друзей – сегодня у одного, завтра у другого. Даже собственную долю имения он отказал в пользу матери, оставшись нищим. При этом из своих не очень больших гонораров он оказывал помощь бедным студентам. После смерти писателя в описи его личного имущества значились книги, немного старых вещей и несколько десятков рублей серебром. Это ли не подвиг? Но подобный, близкий к монашескому нестяжанию, образ жизни абсолютно устраивал Гоголя, ибо соответствовал его предназначению. Точно древний пророк, поставлен он был на ту высоту, откуда на века вперёд видны были судьбы человечества.
Нет сомнения, что пути великих уготовляются на небесах. Узрев своим природно-метким глазом в Гоголе пророка, благословил его на это высокое служение не кто иной, как Пушкин. Именно Пушкин отдал Гоголю свою идею «Мёртвых душ».
Задумка была грандиозной, эпохальной по своему содержанию. Работая над поэмой, Гоголь определил её объём не иначе как «Вся Русь явится в ней». Образцом для воплощения сюжета должна была послужить знаменитая «Божественная комедия» Данте. Как великий тосканец показывал все круги «ада», которые проходит поэт с тенью Вергилия, обращая затем свои стези к «чистилищу» и «раю», так Гоголь должен был отыскать пути к вечной жизни, уготованные России.
Первый том «Мёртвых душ» был встречен оглушительным успехом! И действительно, было в нём нечто притягательное, что отличало бессмертное творение какой-то будто бы магией, или черт знает чем там ещё были приправлены эти слова, но влияние поэмы на умы русской интеллигенции было и остаётся колоссальным. Поговаривали даже о том, что Гоголь продал душу дьяволу, дабы заполучить эту таинственную власть. Однако, разгадка, безусловно, в другом.
Рассуждая о Данте и его «Комедии», Гегель как-то сказал: «Более высоким делом является то, которое каждый человек должен осуществить в самом себе, - его земная жизнь, определяющая жизнь вечную". Данте считал создание своей «Комедии» долгом перед родиной, перед потомками. Он называл её «поэмою священной». Безусловно, Гоголю была открыта эта истина, претворяющая всякое искусство в нечто большее: «Рождён я вовсе не затем, чтоб произвести эпоху в области литературной. Дело моё проще и ближе: дело моё есть то, о котором прежде всего должен подумать всякий человек, не только один я. Дело моё - душа и прочное дело жизни… все мои последние сочинения - история моей собственной души».
Так, часть правды, объясняющей меру необыкновенного воздействия гоголевского труда на умы, заключаются в том, что слова, которыми описан мёртвый «ад» российской действительности – есть слова живые. Ещё в юных летах в письмах к матери он заявлял о страстном стремлении к самопознанию, впоследствии забота об этом стала подвигом его жизни: «Нет, быть может, в целой России человека, - писал он, - так жадного узнать все свои пороки и недостатки, как я говорю это, в сердечном полном излиянии и нет лжи в моем сердце». Проходя вместе со своими героями круги «русского ада», Гоголь в действительности совершал глубокое, монашеское в своём содержании, странствие по пределам собственной души. Так, вооружившись молитвой, ходят о душах своих высокие подвижники - отшельники и пустынники - те, кто поставили смыслом жизни своей подвиг обновления духа и рождение в себе нового человека. Вот исповедание Николая Васильевича в отношении его святого долга: «Я должен сам быть проникнут ясным сознанием нравственного долга человека на земле, чтобы характеры и свойства изображаемых мною людей нечувствительно действовали на читателей в добрую сторону».
В соответствии с учениями отцов церкви, своим «адом» Гоголь проповедовал то, о чем писал глубоко почитаемый им высокий подвижник древности, авва Исаак Сирин: «Соделываемся грешниками не тогда, как сделаем грех, но когда не возненавидим его, и не раскаемся в нем». «С решительностью возненавидь грех! – призывал современник Гоголя свт. Игнатий Брянчанинов. - Измени ему обнаружением его - и он убежит от тебя; обличи его как врага - и примешь свыше силу побеждать его». Гоголь, как и Данте, с пророческой силой мстил в своём «аде» всем силам зла, мстил не из-за личной ненависти, отнюдь, но с душою благочестивой, праведно возмущённой мерзостью переживаемого времени и делал это от лица страшного суда. «Бывает время, - говорил Гоголь, - когда нельзя иначе устремить общество или даже все поколение к прекрасному, пока не покажешь всю глубину его настоящей мерзости». Так, распяв свою собственную плоть со страстьми и похотьми, безжалостно вонзил он острое жало сатиры в это смрадное логово - царство вездесущего человеческого греха!
«Боже, как грустна наша Россия!» - с тоской восклицал о великом творении Гоголя Пушкин, вместе со всей Россией с нетерпением ожидавший продолжения поэмы.
***
В «Выбранных местах из переписки с друзьями» Гоголь приоткрывал завесу над планом продолжения поэмы. В соответствии с трёхчастной композицией «Божественной комедии» великого тосканца, появились сравнения замысла второго и третьего томов «Мёртвых душ» с «Чистилищем» (подвигом покаяния) и «Раем». Что же должны были увидеть читатели? Это было обещание показать героев иного типа, «характеры значительнее прежних». Автор ставил перед собой невероятно трудную задачу духовного преображения своих персонажей, намекал на некий путь спасения их души. И хотя, как замечали литературоведы, с точки зрения буквального, теософского смысла в гоголевской поэме нет ни «ада», ни «чистилища», ни «рая», но подсознательно, на каком-то мистическом уровне, все в ней совершается как будто с оглядкой на «память смертную», на жизнь Будущего века. Задуманную Гоголем трилогию справедливо называли «морально-религиозной поэмой», в которой автор возлагал на себя бремя ответственности за настоящее и будущее России. Художник ощущал себя мессией, должником и ходатаем за всю нацию: «Русь! Чего же ты хочешь от меня? Какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так, и зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?» «Мёртвые души» становилась для её автора титаническим делом всей жизни.
С половины 1843 года Гоголь начинает молить Бога «дать ему силы поднять произведение своё на высоту тех откровений, какие уже получила душа его». Он свято верил, что для всех, в ком ещё не зачерствело сердце, возможно спасение, очищающим началом которого должна была стать любовь в том глубоком христианском смысле, в котором она все шире и шире открывалась ему самому. Это был прекрасный путь духовных исканий, путь долгих, сначала вымучивающих, а потом окрыляющих дум, это было глубокое погружение в изучение святоотеческой литературы, и, конечно же, личный молитвенный опыт страдающей о Христе души. «Сочинения мои, - признавался Гоголь, - так связаны тесно с духовным образованием меня самого, и такое мне нужно до того времени вынести внутреннее сильное воспитание душевное, глубокое воспитание, что нельзя и надеяться на скорое появление моих новых сочинений».
Воистину, для того чтобы «озирать всю громадно-несущуюся жизнь», чтобы выразить «русского человека вполне», в том идеале, «в каком он должен быть», Гоголю необходимо было взрастить в себе две вещи: ни много ни мало, но растворенный в сердце святоотеческий ум и меткий дантовский глаз. Ведь по духовной максиме писателя, в поэме не должно было быть ни слова неправды, в ней всё она – его душа, о которой писал: «Чище горнего снега и светлее небес должна быть душа моя, - только тогда разрешится загадка моего существования». О великом Данте сказаны прекрасные слова, которые в высшей степени могут относиться к Николаю Васильевичу: «О чем бы ни размышлял, о чем бы ни фантазировал Данте, он пишет кровью сердца. Он - не Гомер, невозмутимый и безличный созерцатель, он весь здесь, всем своим существом, настоящий "микрокосмос", жизненный центр этого мира, его апостол и вместе с тем его жертва».
Многие десятилетия, вплоть до 1994 года, в архивах Киева, Москвы и Санкт-Петербурга невостребованными хранились рукописи Гоголя: тетради его выписок из творений святых отцов и богослужебных книг, которые он составлял в 1843/44 годы, живя в Ницце у своих друзей Виельгорских. Помимо древних отцов Иоанна Златоуста, Василия Великого, Ефрема Сирина, Григория Нисского, Иоанна Дамаскина, Кирилла Александрийского и других, Гоголь знакомился с сочинениями современных ему духовных писателей: святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского, Задонского затворника Георгия, епископа Костромского и Галичского Владимира (Алявдина), епископа Полтавского Гедеона (Вишневского), протоиерея Стефана Сабинина. Выписки писателя из творений святых отцов и учителей Церкви, Кормчей книги и служебных Миней по-новому открывают нам его творческие устремления. Именно здесь обнаруживаются видимые связи со вторым томом «Мёртвых душ», а также с «Размышлениями о Божественной литургии», «Выбранными местами из переписки с друзьями» и с «Авторской исповедью». До нас также дошли некоторые молитвы, написанные Гоголем в 1846 году. Это молитвы за друзей и за все человечество (отсюда угадывается истинное значение «Выбранных мест…», как страстное желание служить ближним, а никак не горделивое и потешающее учительство, которое приписывали Гоголю современники). Но особая духовная сила заключена в молитве, призывающей Духа святого снити на душу писателя-пророка. Невозможно не привести её полностью, ибо здесь в этой одухотворённой точке, в этом центре силы, подобно лучам, проходящим сквозь увеличительное стекло и воспламеняющим все вокруг, - весь Гоголь, вся его высокая и величественная душа:
«Господи, благослови на сей грядущий год! Обрати его весь в плод и в труд многотворный и благотворный, весь на служение Тебе, весь на спасенье душ. Буди милостив и разреши руки и разум, осенив его светом высшим Твоим и прозреньем пророческим великих чудес Твоих. Да Святый Дух снидет на меня и двигнет устами моими и да освятит во мне все, испепелив и уничтожив греховность и нечистоту и гнусность мою и обратив меня в святый и чистый храм, достойный, Господи, Твоего пребывания. Боже! Боже! не отлучайся от меня! Боже! Боже! воспомни древнюю любовь. Боже! благослови и дай могущество возлюбить Тебя, воспеть и восхвалить Тебя, и возвести всех к хваленью святого имени Твоего.
Влеки меня к Себе, Боже мой, силою святой любви Твоей. Ни на миг бытия моего не оставляй меня; соприсутствуй мне в труде моем, для него же произвёл меня в мир, да, свершая его, пребуду весь в Тебе, Отче мой, Тебя единого представляя день и ночь перед мысленные мои очи. Сделай, да пребуду нем в мире, да обесчувствует душа моя ко всему, кроме единого Тебя, да обезответствует сердце моё к житейским скорбям и бурям, их же воздвигает сатана на возмущение духа моего, да не возложу моей надежды ни на кого из живущих на земле, но на Тебя единого, Владыко и Господин мой! Верю бо, яко Ты един в силах поднять меня; верю, яко и сие самое дело рук моих, над ним же работаю ныне, не от моего произволения, но от святой воли Твоей. Ты поселил во мне и первую мысль о нем; Ты и возрастил её, возрастивши и меня самого для неё; Ты же дал силы привести к концу Тобой внушённое дело, строя все спасенье моё: насылая скорби на умягченья сердца моего, воздвигая гоненья на частые прибеганья к Тебе и на полученье сильнейшей любви к Тебе, ею же да воспламеняет и возгорится отныне вся душа моя, славя ежеминутно святое имя Твоё, прославляемое всегда ныне, и присно, и во веки веков. Аминь».
В один из приездов в Оптину Пустынь Гоголь прочитал рукописную книгу преподобного Исаака Сирина (с которой в 1854 году старцем Макарием было подготовлено печатное издание). Авва Исаак, отец среди отцов и высота поистине непостижимая, не мог не оказать на мировоззрение писателя сильнейшего влияния. В монастырской библиотеке хранился экземпляр первого издания «Мёртвых душ» с пометками автора, сделанными им по прочтении этой книги. На полях одиннадцатой главы, против того места, где речь идёт о «прирождённых страстях», он набросал карандашом: «Это я писал в «прелести», это вздор - прирождённые страсти - зло, и все усилия разумной воли человека должны быть устремлены для искоренения их. Только дымное надмение человеческой гордости могло внушить мне мысль о высоком значении прирождённых страстей - теперь, когда стал я умнее, глубоко сожалею о «гнилых словах», здесь написанных. Мне чуялось, когда я печатал эту главу, что я путаюсь, вопрос о значении прирождённых страстей много и долго занимал меня и тормозил продолжение «Мёртвых душ». Жалею, что поздно узнал книгу Исаака Сирина, великого душеведца и прозорливого инока. Здравую психологию и не кривое, а прямое понимание души, встречаем у подвижников-отшельников. То, что говорят о душе запутавшиеся в хитросплетённой немецкой диалектике молодые люди, - не более как призрачный обман. Человеку, сидящему по уши в житейской тине, не дано понимания природы души».
Не являются ли последние годы жизни писателя, те глубинные нравственные переживания, которые на путях духовного возрастания испытывала его душа, самым прекрасным и самым полным воплощением второго тома безсмертной поэмы? И уж стоит ли так сильно сокрушаться над сожжённым томом «Мёртвых душ»? Ведь те, кто имеют входить в пределы прекрасного собора с именем Гоголь, уже не раз листали дивные главы лишь по факту не дошедшего до нас труда.
***
О, Дон Кихот русского бездорожья! О, блаженная и триблаженная душа! Кто мог понять тебя? Кто дерзнул разделить высокие чаяния и светлые надежды твои? После выхода «Выбранных мест…» о Гоголе стали писать, как о безвозвратно переступившем все правила и законы литературы. С.Т. Аксаков изъяснялся о «Переписке» более чем конкретно: «Самое лучшее, что можно сказать об ней, - назвать Гоголя сумасшедшим». На слова писателя о том, что «Выбранными местами…» он нанёс российскому обществу оплеуху и в первую очередь оплеуху самому себе («О, как нам бывает нужна публичная, данная в виду всех оплеуха»), замечали, что, действительно, «так никто никогда не писал, тут в самом деле - или «мерзавец», или «святой»». Но всех превзошёл В.Г.Белинский который, по его собственным словам, после прочтения этого исповеднического труда, «завыл шакалом, залаял собакою и весь отдался бешенству». И западники, и славянофилы, - все отреклись от Гоголя. Казалось, что в этом вихре разыгравшихся вокруг «Выбранных мест…» страстей, целый легион бесовский мстил ему «смехом за смех». Гоголь прекрасно понимал природу этой общественной реакции: «образовалось что-то вроде демонского восстания…» - писал он графу А.П.Толстому. Но самым показательным является то, что, несмотря на природно-тонкую нервную организацию души, Гоголь в этой ситуации оставался предельно спокоен. Находясь под шквальным огнём жёсткой, порой просто извращённо-безобразной критики, он кротко принимал предательство за предательством, оказываясь в итоге практически в совершенном одиночестве. Но более того, среди нарочно созданной им бури, он чувствовал глубокое нравственное удовлетворение, рассуждая, что стоит «выпустить заносчивую, задирающую книгу, которая бы заставила встрепенуться всех», как многие, «в желании теперь доказать мне мои ошибки, рассказывают именно те вещи, которые мне и нужны». Да, он оказывался победитель! Вся просвещённая Россия обратила свои замутнённые взоры к Богу! Безумство твоё – юродство о Христе Иисусе. В этой связи вспоминается история Василя Блаженного, которого побили камнями за то, что он расколотил в храме икону. Били святого до тех пор, пока не увидели, что за иконой той «бес себе гнездо свил». Увы, но беса, которого Гоголь пронзил пером, как мечем, увидели лишь только после смерти писателя да и то не все.
Из Священного Писания нам известно, что избранным своим Бог даровал «власть исцелять от болезней и изгонять бесов» (Марк 3:15). Приказывали нечистым духам преподобный Антоний Великий, Киево-Печерские святые Василий и Феодор, мученики Конон Исаврийский и Трифон, святые Иоанн Новгородский и Серафим Саровский, как мы уже знаем, изгонял бесов и оптинский старец Макарий. Смело ввязался в эту неравную схватку и Николай Васильевич, по собственному признанию которого, главною мыслью его творчества было «как черта выставить дураком». «Вы эту скотину (черта) бейте по морде, - писал он С.Т.Аксакову, - и не смущайтесь ничем. Он щелкопёр и весь состоит из надуванья и т.д.» Иррациональность, эпатаж, крайняя инфантильность, стремление к публичному самобичеванию - все более и более обнаруживали в нем святость. Не готовому к подобному откровению обществу, ничего не оставалось, как ради спасения литературного имени гения, ещё при жизни признать его сумасшедшим.
Кто же мог уверовать вместе с тобой в эту «наивную утопию», в эти «бредни тронувшегося умом сумасшедшего» о всенародном российском возрождении? А ведь именно об этом должны были быть второй и третий тома поэмы. «Если предстанет нам всем какое-нибудь дело, - восклицал писатель-пророк, - решительно невозможное ни для какого другого народа, хотя бы даже, например, сбросить с себя вдруг и разом все недостатки наши… то с болью собственного тела… так рванётся у нас все сбрасывать с себя позорящее и пятнающее нас, ни одна душа не отстанет от другой, и в такие минуты всякие ссоры, ненависти, вражды - все бывает позабыто, брат повиснет на груди у брата, и вся Россия - один человек»... Нет, не поверили!
Непонятый и одинокий, твоя душа могла быть открыта лишь только душе такой же как ты – святой! О, великое утешение! О, встреча всех встреч! Ангелы ликовали, когда самым неприметным днём, в монашеской келье сошлись два Божиих избранника: старец и чудотворец Макарий и русский пророк Николай Гоголь! Так о чем же они могли говорить? Конечно, о России!
«Сердце обливается кровью при рассуждении о нашем любезном отечестве, России нашей матушке, – размышлял старец, - куда она мчится, чего ищет? Чего ожидает? Просвещение возвышается, но мнимое: оно обманывает себя в своей надежде; юное поколение питается не млеком учения Святой нашей Православной Церкви, а каким-то иноземным, мутным, заражённым духом; и долго ли это продолжится? Конечно, в судьбах Промысла Божия написано то, чему должно быть, но от нас сокрыто по неизреченной Его премудрости. А кажется, настаёт время по предречению отеческому: „Спасающийся да спасёт свою душу"». Эти трагические слова и мысли святого удивительным образом перекликаются со словами Гоголя: «Русь, куда ж несёшься ты? Дай ответ. Не даёт ответа».
Несомненно, беседа с преподобным Макарием была для Гоголя радостной, но одновременно и очень волнительной, ведь тогда решалась его судьба…
Известно, что уже в середине 1845 года Гоголь всерьёз собирался оставить литературную деятельность и уйти в монастырь. В «Выбранных местах…», в письме к графу А.П. Толстому он писал: «Нет выше званья, как монашеское, и да сподобит нас Бог надеть когда-нибудь простую ризу чернеца, так желанную душе моей, о которой уже и помышление мне в радость. Но без зова Божьего этого не сделать. Чтобы приобрести право удалиться из мира, нужно уметь распроститься с миром. Нет, для вас, так же, как и для меня, заперты двери желанной обители. Монастырь наш – Россия!»
Существует предание, что Гоголь желал окончить свою жизнь в скиту Оптиной пустыни, под духовным руководством старца Макария. Об этом впоследствии рассказывал преподобный Варсонофий оптинский: «Незадолго до смерти он (Гоголь. – М. М.) говорил своему близкому другу: "Ах, как я много потерял, как ужасно много потерял..." – "Чего? Отчего потеряли вы?" – «Оттого, что не поступил в монахи. Ах, отчего батюшка Макарий не взял меня к себе в скит?"» Это предание отчасти подтверждается свидетельством сестры Гоголя Анны Васильевны, которая писала, что брат её «мечтал поселиться в Оптиной Пустыни». Мечте Гоголя не суждено было сбыться. Прозорливый старец, не смея встать на пути Божьего замысла о Своём избраннике, подспудно благословил его на блаженный исход.
***
Последнюю в своей жизни зиму 1852 года Николай Васильевич намеревался провести в Крыму. Однако, отправившись в сентябре 1851 года на Полтавщину, на свадьбу сестры, он по дороге неожиданно повернул на Оптину пустынь. После длительного разговора с любезным его сердцу старцем Макарием, он почувствовал некоторое облегчение, но позже оказался снова одолеваем мучительными раздумьями и более всего его волновали слова старца, сказанные им во время их прощания. После долгого колебания, Гоголь, наконец, решил написать ему записку: «Ещё одно слово, душе и сердцу близкий отец Макарий. После первого решения, которое имел я в душе, подъезжая к обители, было на сердце спокойно и тишина. После второго как-то неловко и смутно, и душа неспокойна. Отчего вы, прощаясь со мной, сказали: „В последний раз"? Может быть, все это происходит от того, что нервы мои взволнованы; в таком случае боюсь сильно, чтобы дорога меня не расколебала. Очутиться больным посреди далёкой дороги – меня несколько страшит. Особенно, когда будет съедать мысль, что оставил Москву, где бы меня не оставили в хандре».
Старец ответил на обороте этого письма, что жалеет Николая Васильевича, сокрушается о его нерешимости и волнении, но о том, почему сказал, что видится с ним «в последний раз» не написал ни слова...
***
«Доведу ли Я до родов, и не дам родить? говорит Господь. Или давая силу родить, заключу ли утробу? говорит Бог твой» (Ис. 66:9). Второй том оказался завершён мистическим образом и являл собою саму преображённою душу страдальца. Великая поэма жизни Гоголя была принята Творцом! Забрезжила развязка…
Через полгода после встречи со старцем, Николаю Васильевичу было откровение: он услышал голос, который сообщил ему, что за ним скоро придут. Затем болезнь, молитва, пост… 4 марта 1852 года, причастился Святых Христовых Таин, Гоголь попросил у ангелов лестницу* и… лёгкой душой, взошёл в мир вечный.
Пройдя хорошо знакомыми тропами мытарств, свой сороковой день, а вместе с ним и первый день Светлой пасхальной седмицы (дивны дела Твои, Господи!), душа русского пророка молилась уже со всеми святыми. Третий том бессмертной поэмы дописан - «Рай».
* Предсмертными словами Гоголя были «Лестницу, скорее подавайте лестницу!» Подобные же слова перед кончиной сказал святитель Тихон Задонский, один из любимых писателей Гоголя, сочинения которого он многократно перечитывал. Образ лестницы, ведущей на небо, был особо близок Гоголю ещё и потому, что имел прямое отношение к хорошо известному аскетическому труду преподобного Иоанна Лествичника «Лествица», который был настольной книгой писателя от самой его юности.
Использовались материалы:
-
«Гоголь в Оптиной пустыни», В.А.Воропаев, д.ф.н., проф. МГУ
-
«Старцы и предсказатели Оптиной пустыни», Е.Филякова
-
«Преподобный Макарий оптинский» (http://www.optina.ru/starets/makariy_life_short/