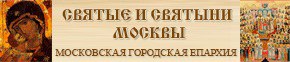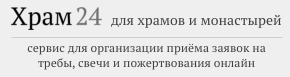В дни работы круглого стола «Добродетель послушания в современных монастырях: практические аспекты», проходившего в Воскресенском Новодевичьем монастыре Санкт-Петербурга, 2-3 июля 2018 года, игумен Петр (Мажетов), наместник монастыря Свято-Косьминская пустынь Екатеринбургской епархии ответил на вопросы «Монастырского вестника» о важных аспектах послушания, затронутых в его докладе.
Отец Петр, в своем докладе Вы озвучили несколько довольно парадоксальных тезисов. Не могли бы Вы для сайта «Монастырский вестник» подробнее разъяснить некоторые из них? Если мы Вас правильно поняли, Вы полагаете, что понятие послушания не всеми осознается одинаково, и его нельзя путать с понятием дисциплины.
Послушание – это добродетель. Добродетель – это связь между Богом и человеческой душой. Здесь нет посредников, нет посторонних наблюдателей, нет свидетелей. Только Бог и душа. Монашеская жизнь – это жизнь двоих: человеческой души и Бога. И любая добродетель, если она считается монашеской, всегда только во имя этого дуэта. Как любовь между супругами – сокровенное единение двух сердец, так же и отношения Бога и души в монашестве – это тоже нечто сокровенное. Именно поэтому послушание – это всегда делание не ради кого-то, а только ради самого себя. Я слушаюсь, не потому что кому-то нужно построить дом, заработать денег, выкопать яму, посадить сад... Нет, я слушаюсь, потому что таким образом сближаюсь с Богом. Это и есть главная добродетель. И всякому – руководителю или послушнику, кто поднимает знамя послушания, во имя послушания, нужно понимать, что он не должен преследовать никакой иной цели, кроме собственно приобретения добродетели послушания, обожения души человеческой, соединения ее с Богом.
Все остальное можно обозначить как церковное служение, церковную работу, но это имеет уже совсем иной акцент и иной формат.
Послушание в прямом смысле делает человека, не побоюсь этого слова, счастливым. Если инок, отдавая себя в послушание старцу, которому он предан, чувствует, что он разрушает свою душу, то здесь что-то неверно: либо человек неправильно слушается, назовем это так; либо, увы, старец узурпирует понятие послушания, злоупотребляет им во имя каких-то внешних дел, действует не во имя души человеческой. Но в таком случае у нас нет оснований использовать слово «послушание».
В случае с послушанием аппетит, как говорится, приходит во время еды. Я окунулся в молитву, мне открывается молитва, и я еще больше слушаюсь. Я больше слушаюсь – мне еще больше открывается молитва. И я уже не могу жить иначе, я себя еще больше понуждаю к послушанию. То же можно сказать и о посте.
Из нашего монастыря примерно год назад ушел один послушник. Я тогда смутился немного, но когда увидел, как он раскрылся в другой обители, был очень рад тому, что хотя бы немного послужил его становлению как монаха. Теперь он счастлив. Находясь в нашем монастыре, он старался слушаться, как мог, но Бог повел его другим путем, и я не счел возможным употреблять шаблонные формулы, вроде «ты не имеешь права», «нет благословения Божия», чтобы удерживать его в своей обители. Ведь если мы ставим во главу угла спасение человеческой души, то оно не может происходить вне самого человека. Не может человек спасаться и при этом ходить как в воду опущенный, изможденный, согбенный...
Подавленность духа не имеет ничего общего с подлинным смирением. Послушание это всегда целеустремленность. Игумен, который понуждает человека слушаться, обязан показать цель, ради которой это надо делать.
Послушание должно иметь в своей основе глубокую культуру. Вначале монаха, как и ребенка, понуждают, чтобы он вкусил необходимость послушания, а потом он сам приходит к осознанию этой необходимости.
Вот почему я говорил сегодня, что нельзя употреблять слово «послушание», когда имеются в виду какие-то иные цели... Можно стимулировать человека, объясняя ему, что вам необходимо построить храм и что Бог нас к этому призывает, что это нужно нам обоим и мы оба об этом мечтали, и что, в конце концов, можно заработать денег в церкви. Разные интересные смыслы можно показать человеку, используя самые разные слова, но говорить «слушайся меня, ты обязан это делать», подразумевая при этом, что тебя не интересует духовное совершенствование человека, а только дело, которое нужно сделать, пускай даже в церковной ограде, – мне представляется неправомочным.
А что такое «неудобный монах»?
Почему я вынужден употребить эпитет «неудобный монах»? Потому что «хороший монах» и «удобный монах» – это разные вещи. «Удобный монах» – тот, кто со всем соглашается, не имеет своего мнения, ни о чем не мечтает, ни к чему не стремится, он просто слушается. Казалось бы, как это хорошо… Только он ничего не приобретет при этом, потому что не дает волю сердечному порыву любить. Любовь – это всегда вызов. Это всегда нечто особенное, яркое. Любить Бога и ближнего – это всегда трудно, всегда бой. Хорошо любить святого, но попробуй полюбить его, когда он неожиданно разгневался, или стал стареньким, больным. Попробуй любить его, когда у тебя внутри пышет раздражительность, зависть... Если ты понуждаешь себя к любви, ты поневоле должен быть жестоким к самому себе, и это всегда брань, всегда война духовная.
Еще запомнилось Ваше размышление о монахах, которые, приходя в монастыри, всего боятся – боятся игумена, боятся наказания, боятся Бога. Мы знаем, что «совершенная любовь побеждает страх». Но ведь кто-то и не доживет до любви совершенной, а как совершать дело спасения в состоянии страха?
Важно, куда обращено лицо твоей души. Если в сторону страха, то ты и живешь страхом… Но ведь что такое страх? На самом деле в нем легко жить. Человека без труда можно заставить молиться, если его напугать. Знаете ли вы, что такое апокалипсис? Надо молиться, чтобы Господь помиловал нас. Американцы придумали новый компьютер, который всех посчитает… – и так я говорю об одном, о другом, третьем… На страхе зачастую бывает построена духовная педагогика, которая, увы, не приносит ожидаемых результатов. Мы просто запугиваем человека, который в определенный момент захочет сбросить с себя эту кабалу. Хотя бывает и наоборот, кому-то хочется, чтобы его напугали.
У меня есть одно интересное наблюдение. К нам в монастырь приходили люди, которые отбывали в местах заключения большие сроки, подолгу жили в тюрьмах. Они предпринимали попытки жить в монастыре, но, как правило, оказывались не способными к монашеской жизни. И знаете почему? Казалось бы, человек 8-10 лет провел в таком смирении, и уж кто-кто, а он может отсечь свою волю и потерпеть закрытое пространство, невзгоды, труды… И тем не менее, у бывших заключенных – полная неспособность к монашеской жизни, потому что настоящее монашество предполагает глубокую внутреннюю свободу. А они привыкли к несвободе. Они привыкли, чтобы кто-то их заставлял делать что бы то ни было. Им нужно, чтобы за ними следили, они к этому привыкли. А монашество, наоборот, предполагает, что человек сам понуждает себя к молитве и добровольному смирению. Тебя никто не заставляет, человече! И когда у человека нет этого внутреннего желания отдать свою свободу (заберете – хорошо, а сам я отдать ее в принципе не смогу, потому что за много лет жизни в несвободе я утратил эту способность), – это означает, он не способен к монашеской жизни. То же самое происходит и с рефлексией страха: когда человек привык бояться и от страха молиться, от страха же что-то исполнять (не сделаешь, епитимию получишь), – он привык и к тому, что его все время наказывают, и он живет этим.
И это невозможно вылечить?
Страх – это внутренний выбор человека. Примечательно, что человеку порой бывает выгодно жить в состоянии страха. Он может роптать на игумена или уйти в другой монастырь, и там найти такого же игумена. Почему? Потому что у него внутри живет желание жить так, чтобы его все время кто-то заставлял. Мой духовный дедушка, игумен Андрей, духовный отец моего духовного отца говорил: «У свободного – все свободны, у раба – все рабы». Если ты свободен, ты будешь вокруг себя собирать свободных. А если ты раб, то у тебя все тоже будут рабы.
Насколько тут уместно слово «лечится», я не знаю. Можно ли страх называть болезнью? Если можно, тогда есть и лечение. Но для многих это нормальное состояние души. Когда люди боятся наказания и делают всё только ради того, чтобы его избежать – и молятся, и ходят в храм, и исполняют какие-то обязанности, – возможно, это их путь, и он, я надеюсь, тоже спасительный…
На Афоне я увидел замечательную иллюстрацию жизни без страха. Один монастырь занимается исихазмом. У братии глубокая молитва: кто-то всю ночь молится Иисусовой молитвой, кто-то читает псалтырь… Одному, чтобы молиться, нужно заниматься физической работой столько-то, другому столько-то, и игумен сам выбирает, кому что полезно, исходя из потребности человека. Если спросить его: «Чем занимаются твои монахи?», он, наверное, ответит: «А кто чем хочет, тот тем и занимается». Спросишь, как монахи молятся, – ответит: да как хотят, так и молятся. Или: как монахи спят? – А кто как хочет, тот так и спит. И это правда. Потому что игумен обязан найти в человеке именно ту расположенность к молитве, которая присуща этому человеку. Вот что такое послушание. Это взаимовыгодное делание, которое нужно обоим. А когда это нужно только игумену или только послушнику, тогда здесь присутствует что-то нечистое. Ведь самое главное – это цель, которую они преследуют. Она все и определяет.
Еще в своем докладе Вы назвали послушание дерзновением...
Да, это не менее важная тема. Действительно, я считаю, что смирение – это всегда дерзновение, всегда вызов. И утверждение это только на первый взгляд может показаться парадоксальным. Если вы смиряетесь, когда вас искушают разные льстивые прилоги: отдохни, уступи, к чему воевать? – кому вы поддаетесь? Лживому влечению падшего естества. Но когда человек настроен на войну, брань, а его начинают искушать льстивые помыслы, – чтó он должен сделать? Он должен дерзко отбросить эту негу, эту дремоту. И для этого требуется именно дерзновение, другого слова не подобрать.
Беседовала Екатерина Орлова
Фото: Владимир Ходаков
Публикации
Доклады