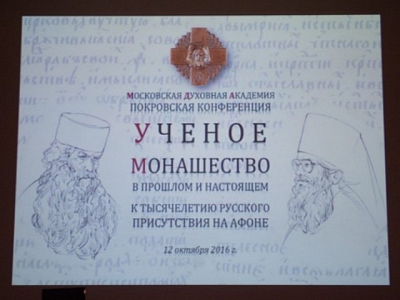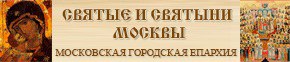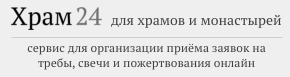Новые доклады

Доклад митрополита Воронежского и Лискинского Леонтия на XXXIV Международных Рождественских образовательных чтениях «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени»; направление «Древние монашеские традиции в условиях современности», секция «Монашеское наследие Египта и актуальность его опыта для современного русского иночества»(Зачатьевский ставропигиальный женский монастырь, 30 января 2026 года)

Доклад игумена Вассиана (Бирагова), настоятеля Спасо-Преображенского монастыря г. Арзамаса (Нижегородская епархия) на XXXIV Международных Рождественских образовательных чтениях «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени»; направление «Древние монашеские традиции в условиях современности», секция «Монастырские уставы и преемство древних традиций – фундамент для формирования личности монашествующего. Практические аспекты» (Зачатьевский ставропигиальный женский монастырь, 28 января 2026 года)
Избранные доклады

Доклад игумении Викторины (Перминовой), настоятельницы Богородице-Рождественского ставропигиального женского монастыря на XXXIV Международных Рождественских образовательных чтениях «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени»; направление «Древние монашеские традиции в условиях современности»; тематическая дискуссия «Монашеский подвиг и внутреннее делание в современных условиях: актуальные вопросы реализации принципов монашеской жизни в практической жизни монастырей» (Зачатьевский ставропигиальный женский монастырь, 28 января 2026 года)

Доклад епископа Можайского Иосифа, наместника Введенского ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь на Собрании игуменов и игумений монастырей Русской Православной Церкви под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Москва, Храм Христа Спасителя, 23 сентября 2025 года